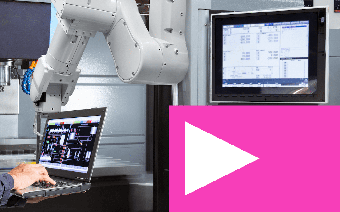В 2013 году японский новостной репортер Мива Садо (Miwa Sado) была вынуждена освещать сразу два процесса голосования подряд — в столичную ассамблею Токио и Палату Советников. Из-за объема работы в течение месяца она получила всего два выходных дня, суммарно проработав 159 часов сверхурочно. Спустя три дня после окончания выборов журналистка умерла. Ей был всего 31 год.
Впоследствии расследование чиновников классифицировало эту трагедию как «кароси» (яп. 過労死) — термин, обозначающий смерть от переработки. В данном случае переутомление наложилось на хроническую сердечную недостаточность, что и привело к смерти. Когда тело Мивы Садо было найдено в квартире, она все еще сжимала в руке свой мобильный телефон.
Конечно, проблемы постоянного переутомления из-за сверхурочной работы — не только специфически японское явление. Просто в этой стране, известной своей жесткой трудовой дисциплиной, оно проявилось наиболее ярко.
Так, согласно исследованию ВОЗ, продолжительный рабочий день становится причиной смерти сотен тысяч людей в год по всему миру. Только в 2016 году было зарегистрировано почти 750 тыс. случаев, когда продолжительный рабочий день приводил к смерти от инсульта или ишемической болезни сердца. Эта проблема, согласно данным NordVPN Teams, стала еще более актуальной во время «удаленки», которую принесла пандемия: в ряде стран было зафиксировано увеличение рабочего дня до 11 часов.
Более того, порядка трети работающих людей считают себя трудоголиками, а количество исследований посвященных этой болезни нашей эпохи растет экспоненциально. И даже наличие свободного времени — времени, не заполненного работой, — также парадоксальным образом стало источником стресса, известного как «синдром выходного дня».
В этом смысле трагическая смерть японской журналистки очерчивает тревожную тенденцию всего постиндустриального общества, в котором труд превратился в тотальность, пронизывающей собой чуть ли не всю человеческую жизнь. Вплоть до того, что в этих условиях стал возникать новый тренд, требующий вернуть человеку «право на лень».
Впрочем, нельзя сказать, что этот тренд попадает в мейнстрим и обладает мощной информационной поддержкой. А если кто-то и начинает говорить о том, что лень как явление требует переоценки, то подобные заявления едва ли воспринимаются всерьез. Отчего-то даже на пределе усталости нам безумно сложно помыслить лень как нечто допустимое, пусть и в самых безобидных дозах.
Труд — это проклятие
На самом деле человек уже несколько столетий живет с двумя любопытными установками. С одной стороны, он поставил труд в качестве главного содержания жизни. А с другой — твердо поверил в то, что технологический прогресс непременно «освободит» его от трудностей труда.
И несмотря на то, что на первый взгляд эти установки друг друга исключают — либо труд как смысл жизни, либо труд как то, что необходимо минимизировать, — на самом деле это не так. Если поместить их в социально-экономический контекст последних столетий, станет ясно, почему они друг на друга работают и друг друга дополняют, сведя на нет даже саму возможность переоценки лени.
Дело в том, что отношение к труду как к чему-то самоценному, как и то, что технологии несут человеку освобождение, были бы непонятны условному человеку из Древнего мира или Средних веков. Не случайно во многих мифах — будь то библейский рассказ об изгнании человека из Рая, шумерское «Сказание об Энки и Нинмах» или древнегреческий миф о Данаидах, — мы сталкиваемся с одной и той же интуицией: труд — это проклятие.
Возьмем ли мы общество аграрного типа с его рабовладельческой системой, или средневековое феодальное общество, опирающееся на работу крепостных крестьян, — повсюду мы увидим примерно одно и то же. Во-первых, отношение к труду как к неизбежному уделу, который, однако, не должен подчинять себе всю жизнь. А во-вторых, достаточно мягкое отношение к лени — как к пороку, хоть и порицаемому, но далеко не самому серьезному, а, порой, и простительному.
Скажем, древние греки вообще презирали ручной труд как таковой, считая это занятие недостойным высокого призвания гражданина полиса. Достойным же содержанием жизни они считали праздность, то есть подлинный, возвышенный досуг, посвященный политике, общению, спорту и самообразованию.
«Вся человеческая жизнь, — писал, например, Аристотель, — распадается на занятия и досуг, на войну и мир, а вся деятельность человека направлена частью на необходимое и полезное, частью на прекрасное... Война существует ради мира, занятия — ради досуга, необходимое и полезное — ради прекрасного».
Примерно таким же настороженным было и отношение к технике. Достаточно вспомнить миф о Прометее, где передача человеку огня и технологий (в широком смысле) оценивается как космическая катастрофа, которая нарушила божественный порядок.
В «Чжуан-цзы» есть притча, в которой рассказывается, как Конфуций и его ученик, проходя мимо одной деревни, остановились и долгое время наблюдали за крестьянином. Тот постоянно бегал за водой к подножию горы, чтобы полить свое поле. Наконец, ученик Конфуция подошел к крестьянину и стал наставлять его: дескать, он мог бы упростить свой труд при помощи устройства «журавля». Однако крестьянин оказался даосским мудрецом. Выслушав ученика Конфуция, он выступил с ответной речью, в которой заявил, что человек, пользующийся машиной, обрекает и свое сердце сделаться «машинным».
Вместо прекрасного — выгодное
Подобное отношение к работе — как к проклятию, без которого не выжить, но к которому жизнь сводить не стоит, — воспроизводилось очень долго, вплоть до XVI—XVII веков. Даже с распространением христианства труд, хоть и приобрел аскетическое и социальное содержание — как то, что дисциплинирует тело и общество, — но так и не стал чем-то самоценным.
Все изменилось вместе с наступлением в Европе Нового времени и, в частности, Реформации, которая сделала труду по-настоящему головокружительную карьеру.
«Трудятся не для того, чтобы жить, а живут для того, чтобы трудиться. Если же человеку больше не дано трудиться, то он обречен на страдания или смерть». Эти слова принадлежат видному протестантскому богослову Николаю Цинцендорфу, и они как нельзя лучше характеризуют тот процесс, который запустил столь радикальную переоценку труда.
Протестантская этика, как и во многом вышедший из нее капитализм, именно трудолюбие и предприимчивость поставила на «Олимп» добродетелей, так что деловые качества и коммерческий успех превратились в проявления «святости». Однако само появление этой этики совпало с целым рядом других глобальных процессов, которые друг друга подпитывали, прокладывая дорогу к индустриализации и современному представлению о работе.
Речь идет и о первой научной революции, которая запустила процесс секуляризации. И о росте городов, который привел к падению феодализма и подготовил появление современного бюрократического государства. И о первых шагах в области создания все более изощренной технологической среды, которая расширила мощь и возможности человека. Все это наполнило новыми смыслами человеческий труд, который из тяжелого проклятия превратился в великое призвание.
«Капитализм не только реабилитировал труд как способ существования homo faber’а (добуржуазного раба, ремесленника, торговца и земледельца), но попытался распространить логику vita activa (то есть деятельной жизни. — РБК Тренды) на все прочие сферы человеческой жизнедеятельности, подчинить «прекрасное и невыгодное» (bonum) «полезному и необходимому» (utile)», — пишет в связи с этим исследователь Игорь Джохадзе.
Недаром поиск тотальной полезности стал настолько всеобъемлющим, что даже творческий труд и возвышенный досуг (в античном смысле) превратились в нечто «несерьезное» — в игровые забавы, которые, если и допустимы, то лишь в рекреационных целях. «Внутри трудового жизненного процесса общества в целом «игра» художника выполняет ту же функцию, что игра в теннис или растрата времени на хобби в жизни индивида», — заключает философ Ханна Арендт.
Время, которого стало «мало»
Но вероятно самые глубокие трансформации, которые принесли за собой Новое время и распространение капиталистического хозяйства, коснулись того, как человек стал относиться к времени.
Английский историк Эдвард Томпсон в работе Time, Work-discipline and Industrial Capitalism описывает, как вместе с появлением в европейских городах башен с часами, чье строительство, как правило, инициировалось и оплачивалось местными купеческими гильдиями, возникает механически исчисляемое время, так хорошо нам знакомое.
Это время, которое стоит денег, потому что подчинено экономической полезности, и которого всегда «мало», о чем не устают напоминать часы. А значит его нужно «тратить» с бережливостью купца, о чем назойливо твердил тот же Бенджамин Франклин.
Во что превратилась лень в этих новых экономических и технологических условиях? С одной стороны — в самый страшный порок, направленный против экономики времени (или времени экономики), который лишает человека спасения и права быть частью общества. Отныне бездельник — это прокаженный, человек, подхвативший моральный «недуг». Или еще хуже — бунтовщик, который бросает вызов обществу и Богу, отказываясь от благословенной работы.
Но распространение этой «болезни» можно предотвратить, если обеспечить правильную социальную организацию. Например, при помощи фабричного гудка, разнообразных форм контроля и учета (вспомним хотя бы законодательную борьбу с тунеядством в СССР), системы денежных поощрений и санкций, школьного образования или тиражирования образов успеха. Благо для всего этого технологическая база уже была на подходе.
А если кто умудрился этот недуг «подхватить», то несчастного можно вылечить, если поместить, к примеру, в рабочие дома. «Должно заставлять их [бездельников] работать так долго и на работах столь тяжелых, как только позволяют их силы и те места, где будут они находиться», — цитирует философ Мишель Фуко одно из положений устава подобного госпиталя с отделением «для юношей и девушек младше 25 лет».
Однако, с другой стороны, лень, под повсеместным гнетом труда, закономерно превратилась в самой желанный плод, в главный предмет тайных мечтаний. Именно здесь и возникает надежда на технологии и, в частности, фигура робота, который позволит человеку отдаться вдохновенному творчеству, оставив мрачные шахты и заводы.
Достаточно вспомнить знаменитый манифест «Право на лень» Поля Лафарг (зять Карла Маркса), в котором труд в капиталистическом обществе становятся главной причиной «духовного вырождения и физического уродства», а в конце провозглашается: «О леность, сжалься над нашей нищетой! О леность, мать искусств и благородных добродетелей, будь ты бальзамом для страданий человечества!»
По сути, весь XIX век прошел под знаком борьбы рабочего класса за то, чтобы защитить свой досуг, вырвать кусок свободного времени из их уже подсчитанного и наполненного трудом времени, а вместе с тем — в утопических грезах о скором освобождении от труда, которое принесет человечеству технический прогресс.
Но какими бы не были успехи этой борьбы, сама необходимость получения «лицензии» на досуг уже означала, что время, встроенное в полезность, человеку больше не принадлежит. А праздность, если и возможна, то только в виде бонуса за достойный труд.
В погоне за свободным временем
В современном постиндустриальном обществе ситуация стала только еще хуже. И не только потому, что фетиш на работу никуда не исчез, а только усилился — достаточно ознакомиться с книгой антрополога Дэвида Гребера «Бредовая работа», в которой показано, как идея всеобщей и обязательной занятости заставляет миллионы людей заниматься бессмысленным трудом. В очередной раз «подвел» технологический прогресс.
Во-первых, цифровые технологии размыли былую границу между временем досуга и временем работы, что стало особенно заметно во время пандемии. Вместе с появлением интернета, социальных сетей и мессенджеров, занятость стала намного более гибкой. Можно сказать, что символический предел современной занятости выражает тот телефон, что держала в руках мертвая японская журналистка.
Более того, эти же технологии даже досуг превратили в работу. Теперь мы не просто гуляем, но подсчитываем шаги и калории. Не просто отдыхаем, но при помощи фотографий и постов отчитываемся о том, куда сходили и что съели, чтобы приумножить свой социальный капитал.
Во-вторых, процесс автоматизации и роботизации не только не привел к уменьшению работы, но стал источником новых тревог. Например, по поводу своей будущей занятости. И все потому, что процесс автоматизации совсем не направлен на то, чтобы предоставить человеку больше свободного времени. По крайней мере, в том обществе, в котором мы живем.
Главная цель здесь только одна — повышение производительности труда с тем, чтобы перебросить освободившееся время на новые участки работы. Отсюда — парадоксальная взаимосвязанность двух установок, с которых мы начинали выше: труд как главное содержание жизни и вера в то, что технологии освободят человека от труда.
Как писал немецкий писатель и философ Фридрих Юнгер, человек, подчиняясь диктату механического времени, «неизбежно стремится выиграть время, то есть какую-то меру механически отсчитанного времени, запас которого у него не безграничен и которое он вынужден экономить. Это и заставляет его конструировать новые механизмы, которые будут работать быстрее, чем уже существующие».
Но, продолжает философ, совсем не для того, чтобы сэкономленное «растратить» на сладостное безделье, а для того, чтобы инвестировать этот «временной излишек» в дальнейший рост показателей и новую полезность. И у этой технологической погони за свободным временем, которое тут же вкладывается в эффективность, потенциально нет предела.
Тем более, что современные практики трудового принуждения де-факто стали куда более изощренными и вездесущими. Незаметно они окончательно отучили нас от лени, превратив даже свободное время в процесс производства, у которого не должно быть каникул.
Для тех, кто захочет узнать больше об истории «лени» — о том, как она осмыслялась в разных культурных и философских традициях, — мы рекомендуем ознакомиться с текстом диссертации, защищенной на философском факультете МГУ, как раз посвященной этой теме.